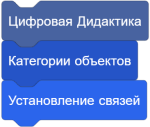Влияние книдского мифа на формирование образов героев в повести И.С. Тургенева "Клара Милич"
| Краткое содержание | В статье рассматривается трансформация образа Галатеи, начиная от божественного дара богини Афродиты до бесовки, доводящей до погибели. Анализируются образы главных героев одной из "таинственных повестей" И.С. Тургенева "Клара Милич". Клара Милич и Яков Аратов сохраняют черты, которые присущи героям книдского сюжета, что и доказывается в результате анализа с помощью ментальной карты и презентации, в которой кратко освещены материалы статьи. |
|---|---|
| Авторы, о которых сделана работа | Тургенев |
| Конкретное произведение, о котором речь | Клара Милич |
| Год написания произведения | 1882 |
Автор Светлана Ефимова
В античной мифологии известен миф о Пигмалионе, о легендарном царе Кипра, создавшем из слоновой кости статую прекрасной женщины, в которую он впоследствии влюбился. Пигмалион всегда почитал Афродиту, вел целомудренный образ жизни и тем самым заслужил благосклонность богини. Услышав его мольбы о возлюбленной и убедившись в искренности его чувств, Афродита вдохнула жизнь в статую.

Миф, связанный с оживлением статуи Афродиты, отомстившей своему поклоннику, который решил провести ночь в объятиях изваяния, получил название книдского. "Если в мифе о Пигмалионе по мановению Афродиты оживает изваяние, которое разделяет любовь мужчины, то в бродячем сюжете Книдского мифа с веками происходит заметная трансформация, влекущая за собой демонизацию Афродиты-Венеры", – пишет Р.Г. Шульц. Он считает, что книдский сюжет является инверсией сюжета о Пигмалионе.
Книдский бродячий сюжет известен в разных странах. Постепенно отходя от первоначального – месть статуи – и превращаясь в миф о ревнивой языческой богине, а потом – и бесовке, соблазняющей и доводящей до погибели, книдский миф странствует по мировой литературе. Анализируя модификации книдского метасюжета в произведениях западной, а также в произведениях русской литературы, мы получили возможность обобщить (ментальная карта) некоторые черты главных героев произведений русской литературы XIX в., в частности "таинственных повестей" И.С. Тургенева. По мнению многих исследователей, к ним примыкают «Фауст» и «Клара Милич (После смерти)», таинственные события в сюжете которых получают и мистическую, иномирную, и рационалистическую интерпретацию.
Повесть «Клара Милич» открывается фаустианской темой в характеристике, которая знакомит читателя с главным героем Яковом Аратовым. Он, "подобно отцу, верил, что существуют в природе и в душе человеческой тайны, которые можно прозревать, но постигнуть – невозможно". Имя Яков, означающее «идущий следом», герой получил в честь ученого Якова Брюса, при жизни считавшегося оккультистом, чернокнижником, алхимиком. Как бы в продолжение занятий своего отца, занимавшегося энтомологией, ботаникой, химией, Яков устроил себе что-то вроде фотолаборатории с различными химикатами.
По мнению И.Л. Золотарева, Яков Аратов, герой повести «Клара Милич», – это "отшельник, романтик и мечтатель". Героям «книдского сюжета», действительно, свойственна некоторая мягкость характера, нерешительность, склонность к рефлексии и душевной борьбе. Вместе с тем они совершают непоправимую ошибку – хюбристическое притязание на внимание божества либо отказ от любовного сближения с земной, а не небесной подругой (как вариант: обмен любви на богатство, власть, творческое дерзание и т.п.). За это они и получают наказание Афродиты или другого божества/сверхсущества.
В повести показана борьба жизни и смерти, земного и иномирного в душе Якова Аратова. В жизни молодого человека идеалом женщины был образ матери. Он же ассоциируется у героя с добром и спасением. Материальным объектом, порабощающим Аратова, становится фотография Клары. Отвергнув любовь девушки при ее жизни, Аратов безумно влюбляется в нее после ее смерти, а фотография становится предметом многочасового созерцания Аратова. Борьба идет между образом покойной матери, который Аратов благоговейно хранит в душе, и образом другой покойницы – Клары Милич. Полноправной хозяйкой его комнаты, как и его воображения, становится Клара. А портрет матери, который "он сохранял, как святыню", Аратов снимает со стены и убирает в ящик стола.

"Медиумизм пассивен по определению, – замечает В.Н. Топоров, – и в этом случае становится достоянием «страдательного» персонажа – Аратова, готового отдаться в чью-либо власть… задолго до того, как возникает сама ситуация власти и ее объекта»". Основой для этого становится растущее в нем чувство вины по отношению к Кларе. Клара является ему в снах и галлюцинациях, в одном из видений он видел ее стоящей на пороге его комнаты с маленьким венком на голове. Это знак, что Клара встретит его на границе миров, она его ждет.
Аратов полностью отдается любви к Кларе, которая приходит к нему в его видениях, он счастлив, что может быть вместе с ней, даже если для этого придется умереть. Сны, видения, свидания с покойной приводят к угасанию Аратова в настоящем. Осознав свою связь с умершей возлюбленной, герой повести обращается к Библии как к высшему авторитету. В библейской Песни Песней сказано: "Крепка, как смерть, любовь" (Песнь Песней, 8:6). Но, раскрыв Библию, этих слов Ветхого Завета Аратов не находит, потому что он ищет другой их смысл, о котором начинает догадываться. "Любовь сильнее смерти", – говорит умирающий Аратов. Читатель может рационалистически объяснить смерть Аратова как результат нервного истощения или психоза, но после смерти у Аратова находят локон черных волос Клары.
Клара Милич является представителем мистического мира. Прототипической основой сюжета «Клары Милич» стала история жизни и смерти актрисы Евлалии Павловны Кадминой, которая покончила с собой, приняв яд прямо на сцене. После ее смерти произошли другие необъяснимые события: один из многочисленных поклонников ее таланта, молодой человек по фамилии Аленицын (актриса не была с ним лично знакома) объявил о своей любви к умершей и о том, что только он ее понимает, только он все о ней знает и может о ней говорить. Вследствие этого психоза он крайне болезненно отреагировал на повесть Тургенева (инфографика).

Сначала Клара Милич завладевает душой Аратова помимо его воли, что сближает ее с демоницей или вампиром. После первой встречи с Кларой на литературном вечере Аратов «что-то припоминал, сам не зная хорошенько, что именно — и это «что-то» относилось к вечеру». В памяти Якова, едва взглянувшего на выступление Клары, запечатлелись ее черные глаза. Таким образом, в повесть вводится мотив взгляда, чрезвычайно важный в фабуле пигмалионовско-книдского мифа.
Аратов сравнивает Клару со статуей. Когда она вышла на эстраду, она «осталась неподвижной», не изменила своего лица, не улыбнулась, и во время ее выступления Аратов отметил «неподвижность… лица, лба, бровей». И хотя в качестве мистического артефакта в дальнейшем повествовании фигурирует фотография Клары, сравнение героини со статуей – второй, наряду с мотивом взгляда, мотив, который сближает сюжет повести с мифом о Пигмалионе и Галатее. В отношении Клары к Аратову следует отметить странную уверенность в том, что он должен понимать, чувствовать то, что переживает она. Это приводит его к еще большему смятению, как будто что-то врывалось в его упорядоченную жизнь. Так начинается все более полное подчинение Аратова воле загадочной актрисы, которое продолжится после её смерти.
Таким образом, центральных героев произведений, сюжеты которых восходят к книдскому мифу, по характеру действий этих персонажей и месту, занятому ими в конфликте, можно разделить на две группы: жертвы и агрессивные мистические существа. К агрессивным мистическим существам – антагонистам героя в книдском метасюжете – по логике повествования принадлежит Клара. В соответствии с «книдским сюжетом», отвергнутая Аратовым Клара приходит за возлюбленным с того света и забирает его в свой загробный мир. Материалы статьи в кратком виде можно увидеть в презентации.
Cписок использованных источников
Золотарев И.Л. Концепция фантастического в реализме русских писателей (30-е–90-е годы XIX века)
Топоров В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы)
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. М.: Наука, 1982. Т. 10
Шульц Р.Г. Отзвуки фаустовской традиции и тайнописи в творчестве Пушкина
Кадры из фильма "После смерти", 1915 г.
В инфографике использованы материалы с ARTEFACT и КИНОТЕАТР.РУ