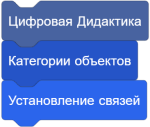Мотив "сокровищ" в романе И.А. Гончарова "Обыкновенная история"
| Краткое содержание | |
|---|---|
| Авторы, о которых сделана работа | Гончаров |
| Конкретное произведение, о котором речь | Обыкновенная история |
| Год написания произведения | 1847 |
Автор Маргарита Васильева
- Краткое содержание статьи:

В последнее время отечественное литературоведение актуализировало изучение «феномена ценности в художественном творчестве». Творец, по формулировке М.М. Бахтина, «находит себя и напряженно чувствует свою творящую активность». Вместе с тем в художественных произведениях запечатлеваются «константы бытия». В современной науке изучение аксиологии образов в художественном произведении актуализировано при изучении его архитектонически-мотивной организации , когда мотив понимается «как сосредоточенность автора на проблемно-тематической конкретике в изображении героя или взаимосвязи героев».
Интерес к ценностным аспектам романного наследия Гончарова и к выявлению авторского идеала жизни сказался в трудах ведущих гончарововедов: А.Г. Цейтлина, Н.И. Пруцкова, В.А. Недзвецкого, М.В. Отрадина, Е.А. Краснощековой. Однако до сих пор в науке не представлен системный анализ мотива "сокровищ", который в архитектоническом построении романа "Обыкновенная история" является ведущим в художественной разработке писателем вопроса о счастье как об определении смысла человеческого бытия.
Мотив «сокровищ» в романе «Обыкновенная история» и его аксиологические векторы — "духовное — материальное" ("небесное" — "земное"), "поиск - добывание" — развивает мысль о разнонаправленных ценностных ориентирах Александра Федорыча и Петра Иваныча и проясняет внутренние стимулы обоих Адуевых, движущие их на пути к обретению условий личного счастья.
Образы Александра Федорыча и Петра Иваныча Адуевых Гончаров выстраивает по своему основному стилевому принципу – «изображение действительности в постоянном композиционном соположении». Гончаров показывает, что Александр Федорыч устремлен в сферу духовных, или, как их иронично называет Петр Иваныч, «небесных» ценностей: это «святые волнения» – любовь и «особый мир» – творчество. Сам же Адуев-старший признает лишь материальные – земные – блага, которые «доставляет» дело – это «деньги», «комфорт», «чины» и предметы роскоши. Петр Иваныч относит себя к категории людей обыкновенных: он «человек, как и все», «думает и чувствует по-земному». Племянник же не может разделить позиции дяди, про которого говорит: «небо у него неразрывно связано с землей», он «никогда не возносится до чистого, изолированного от земных дрязгов созерцания явлений духовной природы человека».

В ценностной системе романа мотив "сокровищ" являет разные смыслы не только на уровне оппозиций духовное (небесное) и материальное (земное), но и на уровне оппозиции «поиск» и «добывание» , проясняющей внутренние стимулы обоих Адуевых, движущие их на пути к обретению условий личного счастья. Данные смысловые векторы в романе носят сквозной характер, но очевидно они явлены в эпизоде спора дяди с племянником о жизненном назначении человека. Петр Иваныч, подстраиваясь под тон Александра Федорыча и адресуясь, как свидетельствуют комментаторы романа, к литературно-романтическому образу «отысканной в навозе жемчужины», переосмысленного «в басне Крылова "Петух и Жемчужное зерно"», иронично замечает: «всякому свое: одному суждено витать в небесных пространствах, а другому рыться в наземе и оттуда добывать сокровища». Подобно тому, как Адуев-старший пытается привить Адуеву младшему собственное убеждение о полезности практического дела, так и племянник стремится доказать дяде, «что есть иная жизнь, <…> иное счастье».
Однако, формально выстроенные автором «сокровища» Александра как духовные и небесные, ориентированные на стратегию поиска, призваны обнажить обыкновенность желаний молодого человека, неспособного трудиться ради их удовлетворения и сосредоточенного лишь на своем эго: в себе персонаж чувствовал «способность любить» и искал человека, «одаренного такой же силой», думал, что в нем «есть искра поэтического дарования», и искал «славы», «неодолимое стремление» ведет его в Петербург «искать счастья». Вместе с тем Гончаров, показывая у Адуева-младшего отсутствие подлинного духовного поиска, демонстрирует невозможность им «отыскать себе дороги», «свой путь». Именно поэтому персонаж, встретив для себя «невыгоды жизни» в Петербурге, неспособен «ничего <…> добиваться и искать». Во внутреннем монологе Александра, размышляющем о том, «сколько сокровищ (он - М.В.) открыл <...> в душе своей», автор не наделяет молодого человека способностью осознать, что духовные качества – «сокровища», которые он называет, но которых он не понимает и которыми не владеет – не могут быть совместимы с эгоизмом и не должны приниматься человеком как данность. По мысли Гончарова, их следует развивать в процессе самостоятельного и упорного труда над самим собой. Адуеву-младшему, исполненному тщеславия и самолюбия, рефлексия недоступна: «всю пустоту и всю ничтожность жизни», которые ощутил персонаж, связаны лишь исключительно с тем, что духовно пуст он сам. И хотя, пребывая в Грачах, Александр на время осознает, что нужно «достигать свыше предназначенной цели при ежеминутной борьбе <…> с мучительными преградами», т.е. вопросами и поисками ответа на них, он, вновь приехав в столицу, по итогу подменяет самостоятельно найденный им путь и решает идти «по следам <…> дядюшки».
В сюжетной линии же Петра Иваныча, призывающего племянника: «делай» и «найдешь свое», Гончаров показывает, что стратегия добывания есть результат самостоятельного поиска персонажем пути своей жизни: в Петербурге «он сам нашел себе дорогу». Привыкнув к столичному «порядку вещей» и определив для себя, что «надо работать, и много работать», Адуев-старший решает жить «скромным назначением», которое предлагает и Адуеву-младшему: «вот ты бы выслужился, нажил бы трудами денег, выгодно женился бы»; «долг исполнен, жизнь пройдена с честью, трудолюбиво – вот в чем счастье!». Автор показывает, как персонаж «поздно» понимает – реальная болезнь Лизаветы Александровны имеет эмоциональные причины – его «методичность и сухость» привели к тому, что он «заставлял ее жить» его «жизнью». Гончаров демонстрирует, что Петр Иваныч, ранее не предоставлявший супруге «вознаградительных условий» за свой эгоизм и не пытавшийся узнать ее «скрытых желаний», в критический момент обнаруживает в себе поиск духовных начал: «он угадал ответ <…> чувствуя, что <…> нужно больше сердца, чем головы», и попытался «отыскать средства <…> восстановить угасающие силы» жены. Адуев-старший, «порывшись в душе своей» и не найдя в ней «страсти», приходит к осознанию, что товарно-денежные отношения и материальные «сокровища» не могут стать заменой «сокровищам» духовным, и решается на мысль, которую «берег <…> на случай крайности» – продаже завода и оставлении карьеры. Гончаров демонстрирует, что в отличие от Адуева-младшего, для Адуева-старшего, возможен отказ от эгоистических установок, направленных у персонажа на добывание материального, он способен к «жертве» ради Другого. И хотя не Лизавета Александровна «и не любовь к ней были единственною целью его рвения и усилий», Петр Иваныч готов перестать «трудиться, отличаться, богатеть», оставить свои «высокие цели, благородные труды» ради нее, т.е. поступиться своим личным счастьем. Так, антитетические жизненные стратегии «поиск – добывание» счастья становятся аксиологическими векторами в развитии мотива «сокровищ» духовных и материальных и обнаруживают как сближение ценностных координат Адуевых, так и расхождение в понимании и определении ими жизненного пути.
Таким образом, мотив "сокровищ" и его аксиологические векторы "духовное (небесное) - материальное (земное)" сопровождают развитие внешнего конфликта Адуева-старшего и Адуева-младшего, который соотнесен для каждого из них с внутренними противоречиями.
В сюжетной линии Александра Федорыча явлена ложность духовных – небесных ориентиров персонажа, его поиск сосредоточен на их материальной – земной реализации: удовлетворении себялюбия; стратегия же добывания, которую перенимает персонаж у дяди – по иронии автора – оказывается более подходящей к действительным интересам молодого человека.
В сюжетной линии Петра Иваныча писатель прямо обозначает сосредоточенность персонажа на материальных – земных благах, стратегия добывания к которым есть выбор персонажа в результате поиска им своего жизненного пути.
В подобном зазоре Гончаров обнаруживает возможность для одного – Адуева-старшего и невозможность для другого – Адуева-младшего – обратиться к духовным исканиям с целью пересмотра своих жизненных координат. Заключим, что функциональная разработка мотива "сокровищ" позволяет определить ценностные ориентации романных героев и, в конечном итоге, с высокой степенью объективности приблизиться к пониманию идеологических установок самого автора.
Дополнительные материалы
- Узнать больше о писателе:
- Пройти тест по статье.
Источники
Литература
1. Филатов А.В. Аксиология в теории литературы: основные направления ценностного анализа. // Сибирский филологический журнал. 2019. № 4. С. 130-140.
2.Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. 504 с.
3. Хализев В.Е. Ценностные ориентации русской классики. М.: Гнозис, 2005. 429 с.
4.Лоскутникова М.Б. Архитектонический строй романа «Обрыв»: сквозные и локальные мотивы. // Материалы VI Междунар. научной конф., посвященной 205-летию со дня рождения И.А. Гончарова. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2017. С. 113-121.
5. Цейтлин А.Г. И.А. Гончаров. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 491 с.
6. Пруцков Н.И. Мастерство Гончарова-романиста. М.; Л.: АН СССР, 1963. 230 с.
7. Недзвецкий В.А. И.А. Гончаров – романист и художник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. 175 с.
8. Отрадин М.В. Проза И.А. Гончарова в литературном контексте. СПб.: СПГУ, 1994. 168 с.
9. Краснощекова Е.А. И.А. Гончаров: Мир творчества. СПб.: Пушкинский фонд, 1997. 492 с.
10. Лоскутникова М.Б. Композиционные принципы стилеобразования в романе И.А. Гончарова «Обыкновенная история» // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук, ЕЖСН-ESSJ). 2012. № 4. С. 173-179.